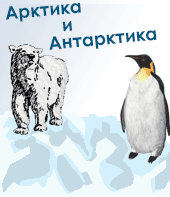
Таксономические связи в составе фауны Арктики
После только что предложенного экологического анализа фауны Арктики с целью обнаружения в ней тех или иных общих для нее свойств, которые могли бы объединить ее в одно экологическое целое, и после более или менее отрицательного на этот анализ ответа вполне допустим вопрос - не представляет ли арктическая фауна, хотя бы в ее отдельных частях, некоторого объединения, выраженного в таксономических и систематических представлениях. Если бы на такой вопрос был дан, хотя бы частично, положительный ответ, то последний указывал бы на выработку групповой адаптации к специфическим условиям Арктики в течение ее длительного развития.
Однако более или менее очевидно, что никакого положительного ответа на этот вопрос дать нельзя: состав фаун Арктики или слишком мал для суждения о нем с систематической точки зрения, или не обнаруживает в себе какого-либо систематического однообразия. Все наземные позвоночные и большое число беспозвоночных относятся к первой из этих групп, насекомые ко второй. Во всех богато представленных в Арктике отрядах последних, главным образом, среди Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera и Goleoptera представлены все главные таксономические их группы, разумеется, в разных количественных отношениях. Впрочем, среди Diptera намечается преобладание Nematocera и низших групп Brachycera, среди Hymenoptera численно преобладают Ichneumonodea и Tenthredinodea, среди Goleoptera наиболее богато представлены Carabodea и Staphylinodea. Среди Lepidoptera, по-видимому, нет такого преобладания, и в этом отряде мы видим представленными все серии эволюционной лестницы от низших Micropterygodea и Hepialodea до наивысших Noctuodea. Таким образом, даже среди самой многочисленной в Арктике группы - в группе насекомых - нельзя установить каких-либо связей между их положением в системе и нахождением в Арктике, ибо среди арктических форм этого класса находятся представители и самых низших и самых высших ступеней этого класса.
Таким образом "принцип Taylor'a", гласящий, будто примитивные формы вытесняются более молодыми и активными, не может быть иллюстрирован ни в каком отделе арктической фауны. А между тем этот принцип, в случае его правильности и при признании пессимальных условий существования в Арктике и, следовательно, при потребности именно в ней этой "молодой активности", должен бы был именно в Арктике выразиться наиболее полно.
* (Если как будто еще есть некоторое основание говорить о том, что древние типы растений ныне менее энергичны, а, следовательно, и менее устойчивы, чем типы новые, более энергичные, то для животного мира такое утверждение требует огромного числа оговорок и исправлений ("дополнений", по Гептнеру 1936). Часто игнорируют тот важный факт, что далее близко родственные виды способны жить при очень различных климатических условиях (Seward 1936).)
С другой стороны, только что указанные случаи преобладания объясняются чисто экологическими связями питания; так, Nematocera в большинстве случаев суть детритофаги, Ichneumonodea эндопаразиты, Carabodea и Staphylinodea плотоядны или хищники, Lepidoptera почти сплошь фитофаги.
Нельзя обойти без внимания еще одного обобщения. Именно, в энтомофаунах северных широт давно принято подчеркивать сильное преобладание отрядов с полным превращением (Rolometdbola) и угнетенное состояние форм с превращением неполным (Hemimetabola). Однако это обобщение нельзя принять без существенных оговорок. С одной стороны, отряды Holometamola и вообще всюду на земле по числу видов сильно преобладают над Hemimetabola вследствие своего несоразмерно большего численного превосходства; с другой стороны, обратно, в состав энтомофаун крайних полярных широт, например, Антарктиды и Земли Франца Иосифа, входят именно и только и исключительно первичные и лишенные превращения Collembola. По этому поводу можно лишний раз выразить сомнение в пригодности того принципа, по которому со времен Burmeister'a (1832) биологическое и явно адаптивное явление метаморфоза зачастую полагается в основу общей классификации насекомых. Едва ли эта мысль верна и едва ли позволительно сопоставлять наличие метаморфоза с высотой филогенетического развития.*
* ( Метаморфоз как физиологический процесс исследован еще крайне незначительно. С уверенностью пока можно утверждать лишь одно, что разные и многочисленные его "формы" представляют весьма различные явления и что объединило их под общим термином "метаморфоза" должно быть сочтено лишь условным и пронизорным.)
Итак, анализ арктической фауны со стороны ее систематического состава и положения ее представителей на разных уровнях филогенетической лестницы не дает наведений при попытках понять происхождение этой фауны. Состав арктической фауны по систематическим группам указывает на отсутствие групповой приуроченности животных к арктической обстановке; в общем, ни одна из сколько-нибудь обширных групп их, даже семейств, не может быть названа специальным продуктом Арктики, результатом приспособления именно к ее условиям. Остается заключить, что состав фауны Арктики является лишь остатком ее былого разнообразия и, может быть, даже богатства.
Остающиеся, после всего изложенного в распоряжении исследователя методы географо-статистический, или топографический, и геолого-исторический являются пока единственными способами решения вопросов о составе и происхождении арктической фауны. Метод статистико-географического изучения ареалов, при сопоставлении с этим изучением всех наличных, экологических, биоценотических и исторических сведений, с честью выдержал длинный путь испытаний на многих примерах, и лишь он один приложим пока для решения проблем настоящей статьи. По отношению же специально к энтомофауне каждой страны, в том числе и Арктики, применимо пока только статистико-географическое, проще, картографическое исследование ареалов и сопоставление с ним экологических и биоценологических данных и соображений. Для применения чисто исторического метода пока неодолимым препятствием служит крайняя бедность, а во многих случаях и полное отсутствие палеоэнтомологических сведений. Априорно представляется, что последовательность применения методов зоогеографического исследования может быть только следующей: прежде всего, должна быть выяснена статическая картина фактов (статистическое и топографическое описание), затем следует выяснение ее динамики (экологическое и физиологическое), и заключают проблему исторические (палеонтологические и геологические) соображения; ни одна из этих сторон исследования не должна остаться без внимания. Но в подавляющем большинстве случаев зоогеографического анализа не хватает твердых фактов по второму и третьему пунктам, и нужные для этого анализа положения добываются пока путем гипотез и догадок.
Казалось бы, что исторический метод должен применяться только в тех случаях, когда другие методы, и из них, прежде всего эколого-физиологический, обнаружили свое бессилие (Кузнецов 1929, 1930). Однако, прежде всего по причинам чисто внешним, практическим, вследствие того, что огромное число зоогеографических явлений не может быть объяснено эколого-физиологически из-за простого отсутствия достаточной суммы нужных для подобного объяснения фактов, эти явления трактуются (или по крайней мере описываются) сразу как. результат исторического, то есть геологического процесса.*
* (К этому разряду зоогеографических явлений, необъяснимых пока иным путем, относится и проблема возникновения арктической фауны Евразии; поэтому полную попытку решения этой проблемы приходится считать за временную и предварительную.)
А затем, по соображениям логическим, историко-геологический метод всегда должен быть применен, ибо в основе всякого события, в том числе и всякого зоогеографического факта, лежит история развития этого факта и фактов, ему сопутствующих. Более того, возможно, что современные условия, в том числе условия географические, климатические и биоценотические играют лишь совершенно вторичную роль в современном хорологическом расчленении биосферы и что всюду в фактах распределения живых существ, причины прошлого преобладают над условиями современного состояния (De Candolle 1856, Reinig 1937).
Из этого положения вытекает, обратно, другая мысль, заключающаяся в том, что сводить все прошедшие явления, особенно такие сложные, как явления биоценотические, к схемам, почерпнутым обязательно из современности, едва ли благоразумно. Эта тенденция привела бы к ложному заключению, что якобы все мыслимые возможности и комбинации между ландшафтами, климатами и биоценозами уже представлены в современности и таким образом якобы уже исчерпаны. Необходимо допустить, что в прошлом существовали также ландшафты несовременные и составлялись на них биоценозы особые, отличные от ныне существующих. Палеонтологические сведения полны указаний на это.
|
ПОИСК:
|
© ANTARCTIC.SU, 2010-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://antarctic.su/ 'Арктика и Антарктика'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://antarctic.su/ 'Арктика и Антарктика'